ВТОРОГОДНИК ЮРИЙ БЕЛЯЕВ
Яна Маевская
24 июля 2007
3678
«Вялотекущая шизофрения — это диагноз, который можно поставить любому артисту, да и любому человеку, занимающемуся искусством». Эти слова Юрия Беляева, сказанные им в одном из интервью, трудно отнести к нему самому
«Вялотекущая шизофрения — это диагноз, который можно поставить любому артисту, да и любому человеку, занимающемуся искусством». Эти слова Юрия Беляева, сказанные им в одном из интервью, трудно отнести к нему самому. Актером он стал как бы случайно, перепробовав до этого много профессий: работал на заводе, инструктором ДОСААФ, дворником, грузчиком. Многим зрителям он знаком по фильму «Графиня де Монсоро», где сыграл роль графа. А театралы восхищаются его игрой в спектаклях театра «Эрмитаж» «Живой труп» (Федор Протасов) и «Анатомический театр инженера Евно Азефа» (Азеф). При этом Юрий Беляев вот уже почти тридцать лет верно служит Театру на Таганке.
В Израильском культурном центре, где мы встретились с Юрием Викторовичем, первое, на что я сразу обратила внимание, — это удивительная скромность и интеллигентность артиста.
— Юрий Викторович, в Театре на Таганке выросло целое поколение звезд, начиная с Высоцкого, Филатова, Золотухина, Демидовой и многих других. Вы себя считаете звездой?
— Нет. У меня нет некоторых качеств для того, чтобы отнести себя к звездам. В частности, успешности, самолюбия, стремления популяризовать себя. Я не смогу по Интернету рассылать приглашения газетам и журналам, чтобы они пришли посмотреть, какой купальник я буду покупать жене перед очередной поездкой на курорт. Не смогу я этого. Мне стыдно.
— А как вы относитесь к своей профессии?
— В какой-то определенный момент своей жизни я вдруг понял, что очень ее не люблю. Она коварная, абсолютно не мужская, она корежит и ломает мужиков, не жалеет никого. Я стал ненавидеть свое дело и своих коллег. Судорожно искал, чем бы заняться, куда бы приложить свои силы. И с ужасом понял, что ничего не умею делать. Руки ни к чему не приспособлены, а голова — так тем более. Я иждивенец тире артист. Умею только выучить чужой текст и ходить под чужую мизансцену. Я был в ужасе и не знал, что делать. Оставалось одно — попытаться овладеть профессией, которая профессией не является. Урок был жестоким, но прошел не без пользы.
— Что именно вам не нравится в профессии актера?
— Отсутствие критериев. Есть только два параметра: нравится — не нравится. Если хирург не может позволить себе лишнее движение скальпелем, потому что пациент умрет, то актер может не то что скальпелем — бревном, да мимо цели! А потом еще с гордостью всем показывать: смотрите, это я! Я такой, великий и знаменитый, вот как я умею!
— А если критерием считать ощущение — удалась вам роль или нет?
— Нет. В отношении «удалась — не удалась» критерием является не реакция зала и не мое самочувствие, а договоренность с режиссером. Я в данном случае всего лишь инструмент, который должен издать звук определенной частоты и чистоты. Причем если в музыке есть жесткие физические параметры чистоты звука, то здесь их просто нет. Этакая вседозволенность.
— Но если нет критериев — нет и профессионального роста, совершенствования?
— Да нет, рост-то как раз и есть. Знаете, как учатся водить автомобиль? Вначале нет ничего, кроме паники и страха. Но походит пять, десять лет, и ты уже можешь не только управлять машиной, но одновременно и курить, разговаривать, болтать по телефону, есть, пить. У актера такая свобода возникает, когда он осваивает рисунок — мизансценический, психологический. И в результате, когда я произношу текст, то не думаю о том, что я говорю! Я передаю какое-то содержание. А его в тексте невообразимо много, и все передать просто невозможно. Но можно к этому стремиться. Это для меня и является совершенствованием.
— Вы сейчас заняты в театре «Эрмитаж» у Левитина и в Театре на Таганке у Любимова. Кто из этих двух режиссеров ближе вам по духу?
— Очень трудно сравнить. Скажем так: Левитин — товарищ, Любимов — учитель. Я недоволен своими ролями в театре «Эрмитаж» и не считаю, что я их сыграл. Этот театр не близок моему сердцу, а язык, на котором разговаривает Левитин, для меня слишком труден. Я понял, что двум Таганкам в моей судьбе не бывать, и того юношеского наслаждения, с которым я играл когда-то, уже не вернуть. Вообще идеальным для меня является положение ученика. Идеальный театр — это компания моих коллег и чтобы режиссер умел нечто такое, чего я бы не умел. Чтобы я мог чувствовать себя счастливым учеником, у которого много учителей.
— Как вы стали артистом, как попали в «Таганку»?
— Это довольно забавная и немного мистическая история. Я никогда не любил, не хотел и не мог учиться. Окончил в итоге не десятилетку, как все, а двенадцатилетку, потому что сидел в одном классе по два года. Если Беляев, значит, к доске, к доске, значит два. Рос в небольшом подмосковном городке. И вот как-то раз сосед повел меня в театр, затем я стал ходить на репетиции, заниматься самодеятельностью. Все больше и больше отравлялся «алкоголем театра», становился одержимым. Однажды компанию моих друзей, с которыми мы повсюду ходили, повязали. Меня тоже должны были повязать, но я в это время как раз был в театре на репетиции — и избежал тюрьмы. Потом три года служил в армии, потом пытался поступать во все институты сразу — и везде с треском проваливался. Потом сузил коридор до театральных училищ: Щукинского и МХАТовского. В конце концов, понял, что никуда, кроме Щукинского, не хочу. Я шел на постановочный факультет, и в мастерских мне давали самые лучшие рекомендации. Заведующая мастерскими всячески меня опекала, договорилась с ректором. Мне надо было только пойти и поучаствовать в сдаче экзаменов — даже не сдать, а только поучаствовать. Надо было пойти на Пушечную улицу, где находился факультет. Как я оказался на Арбате — я не знаю. Как оказался на прослушивании актеров — не помню. Почему на этот раз поступил — без понятия. Одно ясно — был болен театром.
— Театр на Таганке в советское время считался неугодным властям. Тем не менее вам удалось в те времена побывать в Израиле...
— Да, Таганка и Любимов — обязательно «не так». Обязательно против власти. И когда мы поехали в Израиль, это казалось чудом. Повезти в советские времена труппу из пятидесяти-шестидесяти человек плюс декорации... Это было достаточно дорогим удовольствием. Наверное, власть оказывала поддержку Израилю втайне от самой себя.
Принимали нас там замечательно. Наш гид, войдя в автобус, сказал: «У меня будет только одна просьба. Я до одури влюблен в Израиль и могу рассказывать о нем бесконечно. Останавливайте меня, сам я замолчать не могу». Это был такой шквал информации и опять же любви, побасенок, рассказов. Израильтянин, влюбленный в Израиль. Это какая-то фантастика, я нигде не видел таких людей. Как живут там дети — Б-же мой! Я видел только две страны, в которых так относятся к детям, — Япония и Израиль. Культ ребенка, причем не на словах, а на деле. Именно поэтому они потом идут служить и защищать эту землю с оружием в руках.
— Какое качество вашего персонажа делает его близким вам? Кто удается вам лучше всего — герой-любовник, злодей, плут?
— Трудно сказать... Пожалуй, для того чтобы роль пришлась мне по душе, у нее должна быть некоторая свобода. Широкий спектр возможностей. Это должен быть человек, который может быть нежным, грубым, циничным, романтичным, жестоким, благородным, низким. Человек с богатым внутренним миром, человек, которого можно сыграть по-разному — и все-таки это будет один и тот же персонаж.
— Вы сейчас играете Коровьева в спектакле «Мастер и Маргарита». Говорят, что это произведение «не поддается» режиссерам и актерам. Что с ним связаны несчастья, злой рок. Не боитесь?
— Нет, не боюсь. Да, действительно, есть такая легенда. Верить в нее или не верить — личное дело каждого. Я взял на себя грех не просто играть в этой пьесе — я играю беса, черта, слугу Воланда. Но вы подумайте о другом: о том, каков же этот мир, если Б-г посылает дьявола творить добро и справедливость? И мой персонаж, Коровьев, участвует во всем этом...
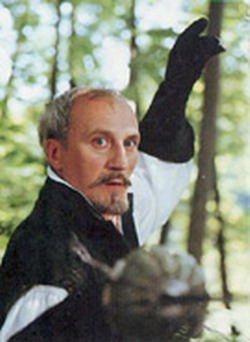
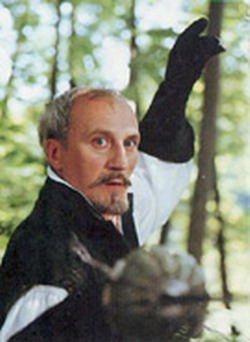

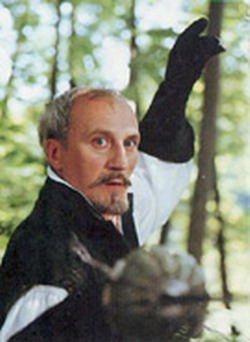
Комментарии:
Добавить комментарий:
Добавление пустых комментариев не разрешено!
Введите ваше имя!
Вы не прошли проверку на бота!