
«У любви как у пташки крылья»
Поводом для оккупации одного из лучших залов мира пестрыми обитателями киносферы стало то, что музыку к фильму написал композитор консерваторской выучки Юрий Потеенко. Под его управлением весь саундтрек исполнялся симфоническим оркестром, сидевшим, как обычно, на сцене, но в темноте, под огромным киноэкраном. Потеенко — ученик Николая Сидельникова, давшего миру выдающихся композиторов Эдуарда Артемьева, Владимира Мартынова, Владимира Тарнопольского, Марка Минкова и многих других.
Скажу сразу: музыка не впечатлила. Это не Артемьев. И не Мартынов. А сама история любви русской девушки Лоры и итальянского моряка из вражеской флотилии, стоявшей в 1943 году на Ладоге, слабо напоминала фильм колоссальной силы — «Сорок первый». Никаких обещанных режиссером поисков истины в «Запрете» я не нашла. Зато поняла, что он очень хотел угодить всем зрителям без исключения, но именно угодить, а не объединить их одним большим общим чувством. Разница такая же, как между ремеслом и подлинным искусством.
Так что запомнилась не музыка, а собственное злорадство при виде того, как киномэтры с высокомерными женами и старлетки, разряженные а-ля Леди Гага, вдруг стушевались в стенах храма музыки, помнящих Рихтера и Горовица, Ойстраха и Гилельса, Когана и Ростроповича…
Ректор консерватории пришел всей семьей. Говорят, проект «Партитура кино» будет продолжен. Но, честно сказать, я и без всякого экрана слушаю здесь в симфонических концертах гениальную киномузыку Прокофьева, Шостаковича, Дунаевского. Просто важно, чтобы в это время за пультом стоял Владимир Федосеев или Владимир Юровский. И тогда мелькающие картинки человеку с фантазией в каком-то смысле даже мешают.
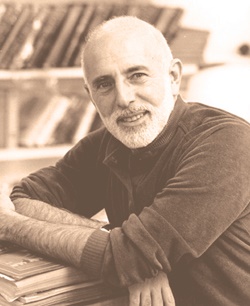 Другие танцы Сергея Полунина
Другие танцы Сергея Полунина
Москва продолжает наверстывать упущенное, хоть это и все сложнее. Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко за один вечер показал три одноактных спектакля американского хореографа Джерома Роббинса (1918–1998).
Если полистать биографию этого постановщика «Вестсайдской истории» и «Скрипача на крыше», лауреата двух «Оскаров», обнаруживаешь, что родился он в семье эмигранта из царской России Натана Рабиновича. У нас бы звался Иеремией, а американскую фамилию получил наудачу. Хотя она всегда оставалась лишь псевдонимом. Сначала он танцевал на Бродвее, затем в труппе «Нью-Йорк Сити Балет».
Могла ли не перевернуть жизнь талантливого Джерома встреча с корифеем дягилевских «Русских сезонов» Михаилом Фокиным? В конце концов он стал создавать балеты сам, для начала выбрав молодого композитора… Леонарда Бернстайна. Как все-таки иногда сходятся звезды!
Москва в память о Роббинсе представила три его творения на музыку Шопена, которая исполнялась пианистами вживую — ноктюрны и вальсы, прелюдии и мазурки.
Первую часть «В ночи» (1970) танцевали три пары, словно вспоминая красивейшие па XIX века. Но все ждали гвоздя вечера — балет «Другие танцы», поставленный в 1976 году для Натальи Макаровой и Михаила Барышникова. Именно эта часть премьеры вызвала довольно нервный ажиотаж. Достаточно сказать, что в зал ввалились, щелкая, шаркая и лязгая (по-другому они не умеют), телеоператоры со своей громоздкой техникой.
На сцене — Сергей Полунин, загадочная звезда последних лет, и невесомая, фантастически техничная Наталья Осипова. В 2013 году она, прима-балерина Большого театра, покинула его ради Лондонского Королевского балета — того самого, с которым Полунин как раз расстался.
Увы, не было больше загадочного красавца, а был, как ни печально, заматеревший, отяжелевший премьер, хоть и вникающий в самую суть гордых и полных тоски мазурок Шопена.
С третьего балета-шаржа «Концерт» (1956) некоторые балетоманы ушли, не желая нарушать романтическое настроение. А по мне — так как раз впору было развеяться и посмеяться уже над выходом забавного пианиста, который первым делом сдул с клавиш рояля многолетнюю пыль. А дальше на сцене предстали мы с вами: жена, чуть ли не на поводке притащившая мужа на культурное мероприятие; восторженная меломанка, сохраняющая сидячую позу, даже когда из-под нее убирают стул; меломан, презрительно фыркающий на девушек, шуршащих бумагой… Как все знакомо! В конце концов пианисту вдруг даже стало казаться, что на сцене мельтешат какие-то жуки и бабочки.
Ой, а кто же тогда в зале-то?..
Страсти с табуреткой
 Замечено: чем увлеченней режиссер излагает свою концепцию, тем у зрителя меньше шансов увидеть ее яркое воплощение. Новая «Кармен» в Большом театре до смешного подтвердила правило. Ее поставил маститый Алексей Бородин, много лет более чем успешно возглавляющий Российский молодежный театр, один из лучших в Москве. Но — драматический. А приглашен он на оперу. Но — с именем, которое на крайний случай всегда сгодится для прикрытия.
Замечено: чем увлеченней режиссер излагает свою концепцию, тем у зрителя меньше шансов увидеть ее яркое воплощение. Новая «Кармен» в Большом театре до смешного подтвердила правило. Ее поставил маститый Алексей Бородин, много лет более чем успешно возглавляющий Российский молодежный театр, один из лучших в Москве. Но — драматический. А приглашен он на оперу. Но — с именем, которое на крайний случай всегда сгодится для прикрытия.
Наверное, драматические режиссеры боятся какого-нибудь не того положения диафрагмы у певцов (режиссеры оперные давно этой фобией не страдают) и еще много чего. Теряются при постановке хоровых сцен — вот и здесь в самом начале спектакля солдаты, высыпав из казармы на волю, играют в мяч, вовлекая в свою мельтешню скромную простушку Микаэлу. Хорошо еще, не в «собачки» с ней играют.
Как же все это и скучно и по-школьному предсказуемо.
«Вы даже представить себе не можете, какое количество клише надо преодолевать при работе над этой оперой!» — восклицает режиссер. Ах, да лучше б он оставил все клише, только чтобы Кармен не выглядела такой одномерной и к тому же танцующей, как пятиклассница на уроке ритмики, Хозе — равнодушным к женщинам, а Эскамильо — героем вставного эпизода, дежурно отрабатывающим знаменитые куплеты.
Как же так? Разве не на этой сцене, «преодолевая клише», властвовала когда-то красавица-цыганка Елены Образцовой; молнией вылетала в «Кармен-сюите» всепобедительная Майя Плисецкая?..
Жаль, что в жертву этой серо-буро-малиновой постановке была принесена яркая, вызывающая «Кармен» Дэвида Паунтни 2008 года. Вспомнить только, как разъяренный Хозе, вцепившись пятерней в гривастый затылок своей возлюбленной, колошматил ее лицом прямо о парапет! Возмущенный дирижер Юрий Темирканов в знак протеста даже не вышел кланяться. Да, исторический вышел скандал.
А что, вы скажете, в театре лучше спать? Новой «Кармен» дирижировал молодой музыкальный руководитель Большого Туган Сохиев. Наверное, тоже преодолевал клише, допреодолевавшись до безликости прямо в знаменитой увертюре. И дальше, в самом спектакле, не было никаких страстей в клочья, которых не чурался даже советский театр. Ну хоть бы танцы оживили действо, ведь специально двух хореографов — уроженцев Гранады — выписали. Но что-то не срослось у нас с Испанией.
Теперь еще учтите, что практичные декорации — стены-трансформеры со скосами — приятненько напоминают размножившуюся почкованием гильотину. Что действие почему-то все время идет в полумраке, будто на шумную южную Андалузию пала полярная ночь. Что стычки и драки в спектакле неловки, как в немой комедии, и особенно смешны, когда в дело идут табуретки.
Да, поистине: искусство — та еще пташка, не менее прихотливая, чем любовь. Чуть недотянешь или чуть пережмешь — и все, нет тебе ни Кармен, ни Хозе, ни Бизе. А только жирная галочка для плана. Хотя именно от Большого мы ждем совсем других птиц — невесомо парящих на высоте нашей вольной мечты о прекрасном.
Наталья ЗИМЯНИНА, Россия

Комментарии:
Добавить комментарий:
Добавление пустых комментариев не разрешено!
Введите ваше имя!
Вы не прошли проверку на бота!