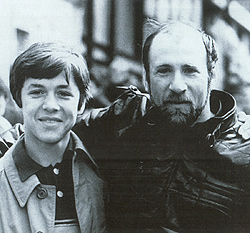
Роман Львович: “Мне в одних крайностях не хватает других”
- Когда учился в музыкальной школе, как многие дети, искал, где полегче. Сначала три года проучился на фортепиано. Как рассказывают родители, плакал горючими слезами и говорил: “Хорошо Баху с Бетховеном – они написали и умерли, а ты тут сиди и играй!”. Потом взял академический отпуск, после чего год проучился на хоровом отделении - надеялся, что петь легче, чем играть. Оказалось, это тоже не так просто. В результате перевелся на гитару - подумал, что если профессией не станет, то все равно пригодится в компании. Так что музыкальную школу окончил по классу гитары. Мой однокашник, ныне известный аккордеонист Саша Ананичев сказал: “Я точно пойду в музучилище, а ты как хочешь”. Но ему-то было легче, он шел на аккордеон, а мне – что было выбрать?
- И тогда вы выбрали композицию?
- Именно. Тем более что к тому времени уже написал несколько песен и вальсов. Но выяснилось, что в Казанском музыкальном училище композиторского отделения нет, есть только теоретическое. Считалось, что там готовят хорошую базу для композитора, и я поступил. С третьего курса перевелся в московское училище им. Ипполитова-Иванова. Проучился год, но учеба шла тяжело. Она как-то не помогала обрести вдохновение..... Я опять взял академический отпуск, потом перевелся в колледж, который теперь носит имя Шнитке, а тогда это было училище имени Октябрьской революции. Учиться стал по индивидуальному плану. Это меня всегда спасало. Я ведь и музыкальную школу экстерном окончил, и училище. А потом и консерваторию – за четыре года вместо пяти.
Честно говоря, мне всегда было удобнее вместо того, чтобы методично и механически выполнять задания “от сих – до сих”, делать все это интенсивнее, не тратя лишнего времени. Многие из тех, кто со мной учился и вписывался в существующую тогда систему, все задания выполняли, но глубоко не вникали, сегодня музыкой уже не занимаются - все по фирмам и банкам разбежались. Мне же всегда хотелось дойти до сути, как Пастернаку. А это возможно только в вольном общении и свободном графике. Думаешь-думаешь года три, и потом вдруг что-то понимаешь.
- Но за последние “года три” вы написали целых три оперы!
- Видимо, количество уже перешло в качество. Ведь я 20 лет профессионально занимаюсь композицией. С тех самых пор как в 1986-м поступил в музыкальное училище.
- А у кого вы учились “в вольном общении и свободном графике”?
- По сути, я детище Геннадия Гладкова. Был его учеником еще до того как познакомились, еще когда жил в Казани. Правда, я тогда думал, что оказаться “на одном гектаре” с ним просто невозможно. Но однажды мы с отцом были приглашены к Сергею Образцову, большому любителю романсов, чтобы вместе помузицировать, а у него в гостях были Василий Ливанов, Виталий Соломин и… Геннадий Гладков! Когда он услышал, как мы с папой исполняем на два голоса и на двух гитарах сделанное мной переложение хора Шебалина “Сквозь волнистые туманы”, ему очень понравилось, и он пригласил меня к себе. Мы подружились, и несколько лет я у него учился. А потом он сказал, что может меня направить в консерваторию. Честно говоря, я немного побаивался, но Геннадий Игоревич сказал, что там есть педагог, который не станет меня переучивать на свой лад, а только поможет совершенствоваться. Так я попал на курс к замечательному композитору Роману Леденеву.
- В вашей семье кроме вас есть музыканты?
- Профессиональный музыкант - я единственный. А вообще, у меня достаточно музыкальная родословная. Мама очень хорошо поет, и дедушка замечательно пел украинские народные песни. Папа и бабушка напевали мне песни и колыбельные на идише. Папина мама играла на скрипке, аккордеоне и пианино. Но сделать это профессией никому даже в голову не приходило. Папа первый попытался найти себя в искусстве. Но он долго метался - не мог решить: то ли он артист драматического театра, то ли театральный режиссер, то ли бард-исполнитель, то ли артист эстрады и юморист… Всего и не перечислишь!
- А чувство юмора вам от него по наследству передалось? И вообще нужно ли это в вашей профессии?
- Говорят, что передалось. Юмор наряду с лирикой, драматизмом и философским началом – очень важная составляющая. Например, как без юмора было бы работать над музыкой к комедийному водевилю “Школа этуалей”?
- Что вам ближе – лирическое, юмористическое или философское начало?
- Меня всегда тянуло к универсализму. Когда все краски присутствуют. Раньше, наверное, лирическое было все-таки чуть ближе.
- О вашей опере “Ревизор. После комедии” очень хорошо отозвался ваш наставник Геннадий Гладков…
- Мне это было очень приятно. Вообще-то он говорил, что ему особенно близок мой мюзикл “Хоббит”. Он обожает эту таинственность, сказочность, походы гномов за золотом, драконов и пр. Стилистика, музыка и настроение, присутствующие там, ему очень близки. Он сказал: “ Все остальное – тоже здорово, но это просто “в десятку!”
На самом деле, задумывал эту работу во многом под впечатлением от общения с Гладковым, его сыном Андреем и внуком Никитой. В них самих есть что-то фантастическое, легкое и эзотерическое, а с другой стороны – вполне вписанное в земную действительность. И можно сказать, что они меня и подвигли на эту работу.
- Расскажите поподробнее о мюзикле “Хоббит”.
- “Хоббит” – моя первая опера-мюзикл, к которой сам написал либретто. Мне пришлось, конечно, кое-какие вещи изменить. Так случается, когда переводишь литературное произведение в музыкальное. Я придумал несколько женских персонажей. Например, возлюбленную Бильбо Беггинса – Тильду Арвен, жрицу хранителей колец.
- Где же можно посмотреть этот спектакль?
- Уже пять лет как он идет в С.-Петербургском театре “Зазеркалье”. И до сих пор аншлаги. В этом спектакле задействован большой эстрадно-симфонический оркестр, занята вся труппа театра, студенты Петербургской театральной академии и детская театральная студия. Созданы огромные декорации. Но в этой масштабности кроется и проблема. К сожалению, мы его никак не можем привезти в Москву. Технически это очень сложно.
- А в Москве не планируют поставить “Хоббита”?
- Такая идея есть, но до воплощения пока далеко. Дело в том, что все театры, в основном, работают только в своем жанре, в своей нише. А мне в одних крайностях не хватает других – в драматическом театре все время хочу видеть музыкальное, в музыкальном мне не хватает драматического. В классической музыке - современного, в современной - классического… В “Хоббите” постарался все это совместить. И пока нашел только один театр – “Зазеркалье”, который тоже к этому был готов.
Известные композиторы Гладков, Рыбников, Артемьев, Дашкевич еще на заре перестройки провозгласили так называемое “Третье направление” в музыке. Хотели, чтобы музыка не распадалась на крайности, а, как в былые столетия, основывалась на синтезе всех жанров. И я их подход разделяю.
- Расскажите о необычном проекте “Марбургский счет”.
- В Марбурге есть такой человек – Гангольф Рекциус, директор гимназии, преподаватель истории и немецкого языка, который учредил Комитет по международным культурным связям города Марбурга. Во время проведения дней Марбурга в Москве ему и его коллегам с российской стороны пришла в голову идея создания оперы, посвященной двум известным российским деятелям культуры – Ломоносову и Пастернаку, которые в разное время учились в Марбургском университете. Когда мне предложили это, я был в шоке, потому что понял: надо создавать документальную оперу с элементами мюзикла, в основе которой исторические материалы, а не литературное сочинение с готовой драматургией, сюжетом и интригой. Получилась довольно своеобразная вещь. Этим проектом вместе со мной занимался преподаватель литературы из московской гимназии – Евгений Михайлович Фридман.
- А где исполнялось это произведение?
- Для этого проекта мы набирали солистов, хор и оркестр со всей Германии. Три раза замечательно отыграли, но спектакль репертуарным не стал, потому что не нашлось подходящего коллектива. А потом в Москве мы собрали музыкантов на одно представление. Хор и оркестр театра им. Станиславского и Немировича-Данченко с удовольствием участвовал в этом. И потом оперу “Ревизор. После комедии” мы тоже делали с командой этого театра. Но почему-то руководство пока этот проект под свою крышу не берет, и мы ставим спектакль в театре Наций.
- Как получилось, что вы взялись за произведение Гоголя, не побоявшись соперничества с Римским-Корсаковым, Мусоргским и другими классиками?
- Мне позвонил из Петербурга музыковед, советник Мариинского театра - Леонид Гаккель и сказал, что у них есть идея конкурса по произведениям Гоголя. Надо было найти сюжет, который еще не использовался, чтобы соперничество с великими было все-таки минимальным. И тогда я обратился к режиссеру Ирине Лычагиной, потому что знал, что она этой гоголевской темой уже занималась. Они с Игорем Цунским написали либретто о событиях, происходящих в уездном городе N после отъезда Хлестакова. Я за два месяца сделал клавир. На конкурсе в Питере получил за эту работу поощрительную премию.
- Когда-то, еще учась в консерватории, вы сказали, что писать музыку для театра и кино – ваша мечта. Сегодня это уже реальность. О чем мечтаете теперь?
- Ну, где опера, там и балет… А если серьезно, то сейчас искусство полностью десакрализовано, и никакой функции высокой и нравственной, как раньше, оно не несет. А я мечтаю, чтобы искусство вновь обрело свое общественное значение.
- Мне всегда кажется, что сочинение музыки – это волшебство. Как профессионал, вы, наверное, знаете какой-то секрет?
- Я думаю, моя профессия – предопределение. И хотя вначале все шло непросто, но спустя двадцать лет мне эта тайна ведома чуть более, чем в начале пути.
Беседовала Мария Михайлова
Фото Лены Михайловой и из семейного архива Львовичей
Тезир:
“Хорошо Баху с Бетховеном – они написали и умерли, а ты тут сиди и играй!”.

Комментарии:
Добавить комментарий:
Добавление пустых комментариев не разрешено!
Введите ваше имя!
Вы не прошли проверку на бота!