
Алеф № 1035, Июль
Вспоминая Михаила Козакова
…Все было выпито, съедено, хотелось, как всегда добавить, но никому не хотелось бежать в магазин за водкой. Все ждали чуда, и оно не преминуло явиться… в лице Михаила Козакова. И минут буквально через двадцать в квартиру Давида Самойлова входил Миша — красивый, ухоженный, в дорогой дубленке, с отборнейшей бутылкой дефицитного в те годы армянского коньяка…
Вместо предисловия
Почти каждый крупный писатель имеет не только поклонников, почитателей своего таланта — дальний круг, но и тех, с кем постоянно и дружески общается, — ближний круг. В него могут входить самые разные люди — и друзья-литераторы, и ученики, и актеры, и те, кто вообще далек от искусства. Здесь царит своя атмосфера, свой стиль отношений, свои юмор и шутки.
Помню, как в застолье блистали своим остроумием Юрий Левитанский и Зиновий Гердт, Игорь Губерман и Михаил Козаков и много других не менее интересных собеседников.
Сегодня речь пойдет именно о Козакове, выдающемся советском артисте, два года назад ушедшем из жизни.
«Нам, милый Миша, быть дано /Игрушкой воли высшей…»
Однажды зимой в один из приездов Давида Самойлова (Д.С.) в Москву мы — Юрий Давидович Левитанский, Эдуард Графов, долгие годы работавший фельетонистом в «Вечерней Москве», актер Рафик Клейнер, сын Самойлова Саша и автор этих строк — сидели у него на кухне в Астраханском переулке.
Все было выпито, съедено, хотелось, как всегда, добавить, но никому не хотелось бежать в магазин за водкой. Было довольно холодно, стемнело, бежать после выпивки из теплого застолья в магазин ни у кого не было сил, хотя желание не проходило. Все ждали чуда, и оно не преминуло явиться…
В лице Михаила Козакова.
В кухне раздался звонок, Д.С. подошел к телефону, сказал: приезжай, мы все тебя ждем, и минут буквально через двадцать в квартиру в Астраханском переулке входил Миша — красивый, ухоженный, в дорогой дубленке, раскрасневшийся с мороза, с пакетом в руках.
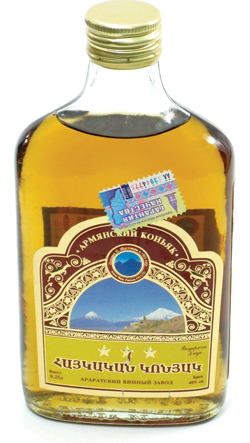 Не успел он раздеться и появиться в кухне с отборнейшей бутылкой дефицитного в те годы армянского коньяка, как журналист Эдик Графов, человек с юмором, мгновенно привстал и голосом Ленина приветствовал Мишу в кухонных дверях:
Не успел он раздеться и появиться в кухне с отборнейшей бутылкой дефицитного в те годы армянского коньяка, как журналист Эдик Графов, человек с юмором, мгновенно привстал и голосом Ленина приветствовал Мишу в кухонных дверях:
«Зд-ррр-авствуйте, дорогой Феликс Эдмундович! Зд-ррр-авствуйте, батенька! Как здоровье? На что жалуетесь?» (до сего времени помню этот раскатистый картаво-гнусавый голос Эдуарда, старательно копировавшего вождя мировой революции). Взрыв смеха в самойловской кухне. Все громко рассмеялись, в том числе и сам Козаков.
Смысл шутки всем был понятен — незадолго до этого Миша снялся в героико-патриотическом фильме «Двадцатое декабря» малоизвестного режиссера Григория Никулина, но зато по сценарию известного если не всему миру, то всему Советскому Союзу Юлиана Семенова. Историко-приключенческая телевизионная картина в четырех сериях рассказывала о первых чекистах 1917 года, их героических шагах на кровавом поприще, о «карающем мече революции», вознесшемся над головами непокорных, и создании грозной ВЧК, из которой, как феникс (только не из пепла, а из крови убиенных), и произросло будущее ОГПУ–МГБ–КГБ, последовательно занимавшееся планомерным уничтожением собственного народа.
Фильм был сделан по всем канонам советского соцреализма — образцовые чекисты противостояли негодяям-контрреволюционерам и, несмотря на это (я имею в виду принципы соцреализма), в общем-то соответствовал правде жизни — враги были уничтожены под самый корень. В роли основателя ЧК, пламенного революционера Дзержинского и снялся Михаил Козаков. И сыграл его так, что герой вызывал некую симпатию даже у продвинутого зрителя. Это была одна из граней Мишиного таланта — злодеи, которых он изредка играл, получались у него не такими страшными, как следовало. Из них выпирали козаковское обаяние и интеллигентность. Это просматривалось с самой первой «злодейской» роли — Зуриты из «Человека-амфибии». Но позвольте, куда там гриновскому разбойнику до основателя, организатора и первого руководителя откровенно бандитской организации!
Но и здесь, видимо, Миша не смог переступить через себя, и Дзержинский получился в фильме Никулина таким, как получился, — холодно-вежливым с врагами революции, готовым принести на ее алтарь любые жертвы и все же с долей козаковской интеллигентности и обаяния. Как говорится, от себя не уйдешь.
Но уже сыграв несколько лет назад одного из самых главных большевиков и в «Государственной границе», и в «Синдикате-2», он дал себе слово больше в такого рода «триллерах» не участвовать и тем более не сниматься в подобных, как бы это помягче выразиться, щекотливых ролях. Но тут подоспела поездка за границу, и ему отказали, не объясняя, как это было принято, причин.
Несмотря на то что это был сам Козаков. Несмотря на то что он был известным советским актером, снявшимся к тому времени больше чем в 35 картинах, и режиссером чуть меньшего количества фильмов и телевизионных постановок. Несмотря на то что он дважды сыграл самого Феликса Эдмундовича Дзержинского. Но Мишу это не остановило, и он стал добиваться правды в Госкино, где ему тоже толком ничего не объяснили, но намекнули — неплохо бы сыграть пламенного революционера еще раз. Например, в запускающемся «Двадцатом декабря». Тогда — в Госкино показали куда-то вверх и чуть вбок — может, что-то и изменится. Миша в сердцах чертыхнулся, возненавидев на всю оставшуюся жизнь «совесть революции», и отступил. Ничего не оставалось делать, как пойти на компромисс и сыграть честного, бескомпромиссного и жутко обрыдшего ему «железного Феликса» в третий раз. Который действительно оказался последним.
Наконец, Козаков вытащил коньяк, и все подняли тост за него, и в этом тосте прозвучала такая мысль: не дай Б-г пригласят в Америку, так заставят сыграть не то что Дзержинского, а первого Ильича, или страшно подумать — самого усатого, ведь тогда уже ничем не отмоешься. На что Миша философически ответил, что он не Максим Штраух и уж вовсе не Мирзо Геловани.
Все с этим контраргументом согласились и в знак согласия выпили. И повторили еще раз, чтобы закрепить ответ Козакова, одновременно закусывая тем, что принес Миша из доступной ему дефицитной Москвы.
«Твоя жена, космополитка…»
Козаков часто приезжал в Пярну. Он останавливался рядом в лучшей гостинице города и каждый день совершал походы к Самойлову. Выдержанные в тевтонском духе, сдержанные в силу своего национального характера, старшие по возрасту эстонцы делали вид, что не замечают очередную московскую знаменитость — мол, в городе бывали и не такие, и действительно, одно перечисление чего стоит — Зиновий Гердт, Юлий Ким, Александр Городницкий, Сергей Юрский и даже космонавт Юрий Гречко (все они ходили в гости к Д.С.). Известный скрипач Пикайзен каждое лето снимал часть дома напротив кабинета Д.С., почти каждое лето отдыхали известный детский поэт Яков Аким и один из знаменитых сценаристов «Бриллиантовой руки» Яков Костюковский. Напротив дома Д.С. располагался дом, где каждое лето снимали комнаты Давид и Игорь Ойстрахи, о чем сейчас свидетельствует мемориальная доска.
Я бы мог продолжить список, но на Ойстрахах поставлю точку. Так что Козаков был для молчаливых пярнусцев одним из многих в этом выдающемся ряду выдающихся людей. Но зато его как знаменитость принимала молодежь городка. Во всяком случае, на всех его выступлениях в Пярну зал был набит битком. Конечно, приходили и пожилые эстонцы, плохо понимавшие русскую речь. Так что не знаю, испытывали они удовольствие от стихов, которые читал артист, а читал он от Ахматовой до Самойлова, разумеется, включая Иосифа Бродского, или от лицезрения московской знаменитости.
Мишу и Д.С. давно связывали нежные дружеские отношения. Но поскольку один большую часть времени проводил в Пярну, а другой в Москве или на гастролях, то виделись они не часто, но зато часто переписывались. Скажу, что Д.С. как литератор старой формации вообще любил писать письма, а когда переселился в Пярну, эта любовь усилилась.
Что же касается переписки Самойлова с Козаковым, то, увидев «Покровские ворота» по телевидению, поэт послал артисту и режиссеру благожелательную рецензию в стихах. Миша же вообще держал Д.С. в курсе всех культурных событий в Москве, не забывая сообщать о том, что происходит с ним лично. И однажды сообщил, что попал в автомобильную катастрофу и сломал пятую точку своего бренного тела.
Через некоторое время Регина, жена Михаила Козакова, отбыла в США. И там осталась. Узнав о фортеле Мишиной жены, Самойлов разразился тремя «гневными» шутливыми посланиями другу, из которых одно было рассудительным, второе — утешительным и третье — обличающим. Вот фрагмент из этого — обличающего — я и приведу:
Твоя жена, космополитка,
Отбыв надолго в США,
Немало родине убытка
Своим поступком нанесла.
……………………………….
Где суп протертый? Где котлета?
Кто постирает нам белье?
Никто. Ответственность за это
Я возлагаю на нее.
А Миша продолжал играть на сцене, читать любимых Самойлова, Бродского и других выдающихся поэтов-современников, сниматься в кино и снимать кино, пока не снял в 1982 году один из лучших (говоря современным языком) советских хитов «Покровские ворота», которые с удовольствием смотрят не только те, кто застал эти времена, но и молодые, которым об этом времени уже рассказывают их отцы и матери. Потому что есть в этом фильме нечто, что берет за душу зрителя, независимо от его возраста.
А потом пришли совсем другие времена, и Козаков покинул страну и уехал в Израиль, где тоже нашел свое место. Затем, устав от ностальгии, вновь вернулся в Россию, продолжал работать, и работал, сколько хватило сил.
Сил хватило до апреля 2011, когда выдающегося актера, режиссера, чтеца не стало. Вечная ему память.
Геннадий ЕВГРАФОВ, Россия

Комментарии:
Добавить комментарий:
Добавление пустых комментариев не разрешено!
Введите ваше имя!
Вы не прошли проверку на бота!